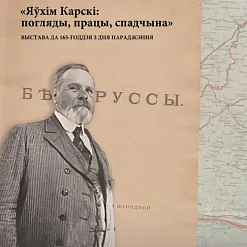Публикация представляет собой полный текст лекции «Три способа говорить о травме: (пост)советское в современной беларусской литературе (Светлана Алексиевич, Виктор Казько, Игорь Бобков)» Лидии Михеевой. Эта лекция открыла цикл мероприятий ECLAB, посвященных проблематике культурной травмы, рассмотренной из перспективы современного беларусского искусства, литературы, театра.
Понятие культурной травмы прочно вошло не только в современную социологию, но и используется в рамках множества междисциплинарных подходов, изучающих историческую память и ее репрезентации. Социальные катаклизмы, молниеносные и долгосрочные трансформации, войны и кризисы, акты насилия и столкновения с Другим, – все это потенциальные триггеры для образования культурной травмы. Польский социолог Пётр Штомпка полагает, что под понятием культурной травмы следует понимать не некое единичное событие, а процесс, который включает в себя множество компонентов: исходную ситуацию, само событие, описание события с помощью имеющихся культурных ресурсов, возникновение определенных социальных симптомов, а также последующую адаптацию, и, в позитивных случаях, – проработку и излечение от культурной травмы . Иными словами, один катаклизм может и не стать «травмой», а другой – напротив, может существенно пошатнуть социальные устои и привычную модель самопонимания общества. Здесь, по мнению Штомпки, действует теорема Томаса – «Если люди считают некие факты реальными, они реальны в своих последствиях».
Важно то, что общества, где этическая рефлексия над прошлым пронизывает повседневность, находят способы проработки своих культурных травм, а не вытесняют их, ведь без этого существующие социальные конфликты накапливаются и обостряются, блокируют потенциал солидарности. Важным ресурсом для проработки культурных травм являются нарративы самоописания общества – как научные (исторический, социологический, политологический и т.п.), так и художественные (литературный, кинематографический и т.д.).
Беглый взгляд на официальную культурную политику современной Беларуси выявит лишь одну «государственно-одобренную» социальную травму, работа с которой является стержнем государственного идеологического метанарратива. Речь, безусловно, идет о Великой отечественной войне. Государство монополизирует дискурс об этой травме, маскируя все болезненное и недоговоренное о войне мифологией подвига беларусского народа, в котором нет темных страниц и противоречивых фигур. Проработать эту травму идеологически помогли и отечественный кинематограф, и беларусская литература. Но если фильмы о войне, снятые на «Беларусьфильме», представляют достаточно цельную картину того, «как было на самом деле» (за исключением, пожалуй, нескольких фильмов вроде «Восточного коридора» В. Виноградова, «Иди и смотри» Э. Климова и др., которые расставляют новые акценты, но все же не противоречат магистральному нарративу о войне), то творчество Василя Быкова в литературе является примером «несистемного» элемента внутри системы: взгляд Быкова идет вразрез с риторикой о «героической войне», и, тем не менее, не оказывается полностью отвергнутым, и частично включается в официальный нарратив.
Что касается других социальных катастроф, пережитых беларусами, то государственная культурная политика делает их практически невидимыми. В пику этому в рамках национальной культурной традиции главной травмой на протяжении десятилетий оставалась проблема национальной идентичности беларусов, беларусского языка и культурного наследия. Для беглого поверхностного взгляда иные травмы оставались на периферии, да и сегодня литература, театр, кинематограф, искусство работают с ними мало, а плоды этой проработки скрыты в недрах художественного и интеллектуального «подполья», без шанса выйти на общенациональную публичную сцену.
Травматический опыт глазами беларусских писателей
Произведения Светланы Алексиевич на этом фоне выглядят ярким исключением – ее работа именно с травматичными и остросоциальными темами вывела ее творчество в поле публичной дискуссии еще в конце 80-х. Афганская война, Чернобыль, и теперь – травма распада СССР – казалось бы, Алексиевич разрабатывает темы, которые десятилетиями существовали на периферии официального дискурса и почти исчезли из нашей коллективной памяти к сегодняшнему дню. Тем не менее, именно то, что Алексиевич всякий раз бралась за наиболее болезненные темы и разрабатывала их «в поле», черпая материал в рассказах реальных людей, вызывало критику ее книг как «нехудожественных», «публицистичных», либо давало повод сомневаться в достоверности ее историй и неангажированности автора.

Дискуссии вокруг фигуры Светланы Алексиевич, перезагруженные после объявления о присуждении ей Нобелевской премии, симптоматичны по многих смыслах. С одной стороны, для многих социальная проблематика до сих пор остается прерогативой публицистики, а документальная проза не входит в понятие художественной литературы. С другой, Светлана Алексиевич по прежнему видится многими стоящей особняком от современной беларусской литературы, будто бы являясь единственной исследовательницей социальных травм, не признающей в качестве таковых проблематику, связанную с национальной идентичностью.
Мне же хотелось бы высказать гипотезу о том, что в современной беларусской литературе не только существует немало произведений, затрагивающих проблематику социальных травм, но и многообразие стратегий работы с ними. Кроме того, на мой взгляд, необходимо снова и снова подвергать сомнению миф о том, что беларусская литература по сей день герметична и целиком сосредоточена на самой себе, видя проблему национальной идентичности в отрыве от иных срезов социальной реальности.
Даже советская беларусская литература отчасти затрагивала культурные травмы – коллективизацию, урбанизацию и сопутствующую травму разрыва с сельскими корнями и землей, а позже – и войну в Афганистане, и Чернобыльскую трагедию. Сегодня же среди таких травм можно назвать травму политических репрессий («Плошча. Гісторыя аднаго кахання» Б. Петровича), травму встречи с Другим («Любіць ноч – права пацукоў», Ю. Станкевич), реакцию на интервенцию иностранного капитала и Другого-как-хозяина («Кантынентальны сняданак» С. Календы), утрату аутентичного облика столицы («Аўтамат з газіроўкай з сіропам і без» В. Некляева). Можно говорить и о новом подходе к травме Великой отечественной войны в повести Алена Брава «Дараванне», и о постмодернистском переосмыслении проблемы утраты беларусского языка в романах В. Мартиновича «Мова» и А. Бахаревича «Дзеці Аліндаркі». Российский писатель беларусского происхождения Саша Филипенко пытается осмыслить массовую давку на Немиге в романе «Бывший сын», а поэт Дмитрий Строцев обращается в своих стихах к трагедии 11 апреля 2011 года.
Можно выделить еще один специфический ракурс осмысления социальных травм беларусскими авторами. Например, рассказы Евы Вежнавец из сборника «Шлях дробнай сволачы», романы Виктора Мартиновича «Сфагнум» и «Сцюдзены вырай», «Шалом» Артура Клинова, можно описать как произведения, где сама Беларусь выступает в качестве травмы. Речь идет об описании специфических рассинхронизаций, аберраций и лакун, которые авторы обнаруживают в устройстве социальных взаимодействий здесь и сейчас. То, что эти сбои и зияния видятся авторами не только как результат некой исторической неизбежности, в качестве примет, в первую очередь, места, а не времени, локальной специфики, а не исторической эпохи, позволяет обозначить этот ракурс маркером «Беларусь как травма».
И, наконец, травма позднесоветских и постсоветских трансформаций, о которой мы снова заговорили в контексте Нобелевской премии С. Алексиевич и ее книги «Время секонд хэнд», находит свое отражение в романах Виктора Казько «І нікога, хто ўбачыць мой страх», «Хвілінка» Игоря Бобкова, «Спачатку была цемра» Бориса Петровича и многих других.
Двойная травма советского/постсоветского
Именно эту травму – травму постсоветских трансформаций в беларусской литературе – я бы хотела поместить в фокус своего мини-исследования. Речь пойдет о стратегиях, которые избирают знаковые беларусские авторы – Светлана Алексиевич, Игорь Бобков, Виктор Казько, для ее «проработки» в своих произведениях. Я постараюсь затронуть следующие вопросы:
– Что содержательно представляет собой (пост)советская травма в беларусской литературе?
– Какие нарративы, тематические сгущения, болевые точки используют авторы для того, чтобы рассказать о травме?
– Каковы Герои «нарратива о травме»?
– Каким образом травма преодолевается посредством литературных нарративов о ней?
Три избранные для анализа произведения современной беларусской литературы описывают события, происходящие либо в позднесоветское, либо раннее постсоветское время – 80-е, 90-е гг. «Время секонд хэнд» – последняя книга «Красного цикла» нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич, написана в жанре нон-фикшн, а книги лауреатов премии Гедройца «Хвілінка» Бобкова и «І нікога, хто убачыць мой страх» Виктора Казько – художественные роман и повесть.
В своем анализе я не прибегаю к методам классического литературоведения, и постараюсь подойти к этим произведениями социологически, задействуя парадигму «культурной травмы». Исходя из этого в данном исследовании «документальность» и «художественность» этих произведений будут поняты в следующем ключе:
Книга Алексиевич не в меньше мере «художественна», чем роман Бобкова и повесть Казько, и не столько в плоскости эстетических оценок, сколько в том смысле, что ее автор так же конструирует своего героя и некий метанарратив, как и авторы т.н. «художественной прозы». Конструирование происходит на многих уровнях: во-первых, через выбор героев, чьи рассказы записывает Алексиевич. На вопрос о том, почему она не включает в книгу истории хорошо адаптировавшихся к постсоветскому обществу счастливых людей, она отвечает: «Получилась бы чистая журналистика, «положительный пример». Я прошлась в этой книгу по самому болевому и показала, что за этим стоит». К тому же, отбор, безусловно, не ограничивается вынесением за скобки «положительных примеров», но и в принципе фильтрует в соответствии с авторским замыслом истории, а зачастую подвергается различным трансформациям: в частности, Алексиевич нередко совмещает истории разных людей в одном нарративе.
Во-вторых, конструирование происходит посредством компоновки, снабжения авторскими комментариями, подзаголовками.
Третий уровень такого конструирования – это сам текст с его стилистическими особенностями, возникающий посредством передачи на письме устной речи. Мы точно не знаем, с какой точностью соотносятся аудиозаписи и их письменная фиксация в книгах Алексиевич, однако можно отметить, что разные герои обретают у Алексиевич одинаковую ритмику речи. Схожий синтаксис мы наблюдаем у всех героев и у самой авторки во введениях и заключениях. Таким образом, хотя бы и на уровне членения, ритмической разбивки потока речи на предложения, автор уже внедряется в «голос» своих героев, даже если первоначально такая унифицирующая ритмизация служит исключительно обще-стилистическим целям – «чтобы лучше читалось», «лучше воспринималось».
Таким образом, мы можем воспринимать книгу Алексиевич в качестве «документа» в широком, а не в строгом смысле слова, поскольку литературная обработка интервью и их сосуществование под одной обложкой, в определенном порядке и с определенными подзаголовками в соответствующих разделах (которые направляют читателя при чтении и интерпретации текста) превращает текст в цельный художественный проект. В нем есть совокупность голосов, из которых конструируется множественный герой Алексиевич, а из множества нарративов складывается некий метанарратив о двойной травме советского/постсоветского.
В то же время, и роман Бобкова, и повесть Казько также могут служить «документами» описываемой эпохи, поскольку нас интересуют не достоверность рассказываемых историй, а тематические «поля травматизации», создаваемые автором, свидетелем эпохи, своего рода болевые точки, которые могут быть относительно автономными от фабулы произведения. Иными словами, при работе с культурной травмой нас интересует не «как было на самом деле», а «как о травме рассказывается», поскольку травма не имеет никакой иной реальности, доступной для исследования, кроме символической формы ее репрезентации – в данном случае, текстовой, реальности.
Таким образом, ко всем трем произведениям мы подходим с установкой – они все «художественны», и при этом статус «документа» может быть приписан каждому из них. В чем же состоит «двойная травма советского/постсоветского»? И почему она двойная?
Безусловно, наибольший травматизм нес распад Советского Союза, кризис общественных институтов, экономический коллапс, внезапное обнищание населения, развал армии, новые границы и военные конфликты бывших «братских народов», состояние крушения монолитного идеологического метанарратива и т.д. В то же время, постепенно за наиболее очевидным верхним слоем этой травмы начинает просматриваться то, что сам Советский Союз был конгломератом социальных травм, которые подвергались систематическому вытеснению. Распад СССР вытягивает на поверхность этот болевой клубок: сталинские репрессии, неуважение к человеческой жизни (жизни собственных граждан на войне и в повседневной жизни), подрыв доверия к государству после Чернобыльской трагедии и др.
Три произведения, о которых пойдет речь, предлагают разные способы разворачивания нарративов об этой двойной травме.
«Время секонд хэнд»: оплакать, чтобы отпустить.
Книги Светланы Алексиевич называют «хроникой чувств», подчеркивая тем самым, что она прежде всего дает возможность говорить тем, кто был долгое время лишен права голоса, – но не стремится свести многообразие голосов к некой единой для всех правде об СССР и эпохе, его сменившей. Сама Светлана Александровна отмечает, что ей удалось собрать свидетельства на сломе эпох, когда «исчез канон, по которому принято рассказывать». Тем не менее, в своей совокупности, истории, из которых складывается книга «Время секонд хэнд», сами задают новый канон (или, как минимум, стратегию) говорения о советском и постсоветском.
Возможно, главный парадокс книги «Время секонд хэнд» в том, что общественная система, в которую включен ГУЛАГ, описывается героями Алексиевич как система, где в «базовой комплектации» подразумевалось человеческое достоинство. Об этом говорит и сама автор: «Многое из того, что потеряно, жалко. Достоинство, прежде всего. Вот это достоинство маленького человека».
Наступившая после распада СССР реальность, напротив, описывается как эра утраты человеческого достоинства из-за идейного коллапса и нищеты, когда человеческая жизнь полностью теряет ценность:
«Бабушкину подругу тетю Феню, она на фронте медсестрой была, дочка похоронила в газетах… завернула в старые газеты… Медали просто так в ямку положили… Дочка – инвалид, на помойках копалась…(…) Но мама бабушке пообещала, что похоронит ее в гробу».
«Командир просил: «Только не стреляйтесь. Людей списать легче, чем патроны».
Еще один модус утраты достоинства связан с уходом в потребительство и включением в рыночные отношения:
«Все что угодно готов был делать, только не продавать», «ненавистное мне «купи-продай», «торговать мама стеснялась, ей было стыдно. (…) Мало она там продержалась, с торговлей у мамы не пошло… Я увидела объявление на заборе: «Требуется уборщица с высшим образованием»…
«Я занялся «бизнесом». Продавал на рынке «бычки» – недокуренные сигареты. Литровая банка «бычков»… трехлитровая… Родители жены (вузовские преподаватели) собирали их на улице. И люди покупали. Курили. Я сам курил».
Вспоминая голодные 90-е герои, Алексиевич балансируют на противопоставлении полярных ценностей: «колбасы» и великих идей, «стыдного потребления» – и кровавого сталинизма. При этом потребление вменяется героями в вину новому обществу и самим себе, описывается как слабость, а порой – как моральное падение:
«С подружками я ходила в коммерческий магазин, разглядывали там колбасы. Какие-то блестящие упаковки. В школе те, у кого были легинсы, дразнили тех, кому родители не могли купить эти легинсы».
«Настало счастье, да? Появилась колбаса и бананы. Валяемся в говне и едим все чужое. Вместо родины – большой супермаркет».
Достоинство же в большинстве нарративов оказывается расположенным ближе к полюсу пусть «кровавого», но подкрепленного «большой идеей» существования:
«Великая идея требует крови. Сегодня никто не хочет умирать где-то. На какой-то войне. Как в той песне: «Всюду деньги, всюду деньги, Всюду деньги, господа».
«Старики могли прожить на свои пенсии, бутылки на улицах не собирали. Объедки. В глаза не заглядывали, не стояли с протянутой рукой… Сколько людей убила перестройка – еще надо посчитать».
В чем парадокс этого понимания достоинства? За счет чего оно ощущается как утраченное? Возможно, дело в том, что ощущение «личного достоинства» происходило из некого «коллективного достоинства», гарантированного государством, направлявшим большие массы людей по направлению к общей цели. Во многом, такое понимание достоинства является скорее парафразой коллективизма и утопической направленности этой коллективной жизни. Даже тяжелое материальное положение в рамках утопического устройства мира не переживается как крах, аномия, унизительное положение, поскольку задан вектор «ради чего» терпеть лишения.
В то же время «нищета без идеи» оказалась тяжелым моральным испытанием для постсоветского человека, прежде всего из-за отсутствия обоснованного «ради чего». Об этом, например, говорит в своей предсмертной записке, цитируемой в книге «Время секонд хэнд», Тимерян Зинатов, защитник Брестской крепости, покончивший с собой в 1992 году:
«…если бы тогда, в войну умер от ран, я бы знал: погиб за Родину. А вот теперь – от собачьей жизни. Пусть так и напишут на могиле…», «Средства оставляю, если не обворуют, надеюсь, на закопание хватит… гроба не надо… Я в чем есть, той одежды хватит, только не забудьте в карман положить удостоверение защитника Брестской крепости – для потомков наших. Мы были героями, а умираем в нищете! Будьте, здоровы, не горюйте за одного татарина, который протестует один за всех: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!»
Постсоветская депрессия – результат «невыполненного обещания», ненаступившей Утопии. Многие собеседники Алексиевич называют виноватыми в этом Рынок, Чубайса, Америку, тех, кто развалил СССР. Однако, в общем многоголосии мнений выделяется общая линия – виновата также и сама система, которая это обещание и иллюзию «достойной жизни» сгенерировала. Экстремумы этой идейного устройства системы лучше видны на расстоянии. Например, поколение «детей» уже может различить в мировоззрении своих «родителей» склейку понятий утопического, идеалистического, коллективистского и «достойного»:
«Папа мечтал бросить нас под танк… Он хотел, чтобы мы скорее стали взрослыми и попросились добровольцами на войну. Мир без войны папа не представлял. Нужны герои! Героями становятся только на войне, и если бы там кому-то из нас отсекло ноги, как Алексею Маресьеву, он был бы счастлив».
Специфическое ощущение рассказчиками СССР как страны, обеспечившей своим гражданам чувство человеческого достоинства, зиждется и на особом статусе травматичных социальных зон. Например, несмотря на то, что знание о существовании ГУЛАГа было частью разделяемого обществом повседневного знания, это знание парадоксальным образом было «слишком близко», чтобы быть отрефлексированным и полноценно этически оцененным. Мощный запрет на рациональную рефлексию и подведение итогов связан с «круговой порукой», включающую всех граждан страны в сложную сеть семейной, кровной вины друг перед другом, и включает механизм блокировки распутывания клубка виновности, грозящей дисбалансом внешней видимости солидарности:
«Почему мы не осудили Сталина? Я вам отвечу… Чтобы осудить Сталина, надо осудить своих родных, знакомых. Самых близких людей».
Близость/потусторонность этой темы наделяло знание о ГУЛАГе статусом вытесненного. ГУЛАГ воспринимался не как неотъемлемая часть социальной системы, а как некая лиминальная зона, (в)не-социум, куда можно выпасть из отлаженного актуального существования в системе.
Таким образом, отношение к государственной машине или социуму выстраивается в нарративах, представленных Алексиевич, не «через» знание о несправедливостях и преступлениях режима, а разворачивается в форме столкновения двух типов знания: о «дневном», «нормальном» режиме существования системы, где существовали не только высокие идеалы, но и понятие о человеческом достоинства, и ее «маргиналиях», например, ее темном двойнике – ГУЛАГе, где этого достоинства можно было лишиться.
Еще одна особенность в понимании «достоинства» героями Алексиевич состоит в том, что, постфактум оно оказывается в их рассказах завязанным на минимальную материальную обеспеченность, а не на свободу. Более того, оно описывается не как неотъемлемое качество индивида, а как нечто, что должно быть обеспечено неким вышестоящим гарантом – государством, вождями и т.п.
Травма постсоветского человека во многом подобна шоку брошенного ребенка: патерналистская система перестала существовать, члены «семьи» оказались атомизированными, вскрывалась страшная правда о сложных сетях предательства внутри «семьи», и выживать пришлось каждому поодиночке. Более того, в отсутствии большой идеи и коллективного движения к ней, с которой была связана вся публичная жизнь советского человека, самостигматизируется и приватная жизнь, жить которой также оказывается стыдно. Герои Алексиевич говорят и о своей вине за желание «нырнуть, пропасть в частном существовании».
Таким образом, выделяя из множества нарративов повторяющиеся лейтмотивы и символы, можно обозначить следующие полюса означающих:
Группа отрицательных означающих, ложных ценностей: колбаса – деньги – купи-продай – «вместо родины – супермаркет»
Группа положительных, утраченных ценностей: «великая идея», цель, «путь познания», Родина, быть героем, война.
Знаковые фобические объекты связаны, главным образом, с нищетой как утратой достоинства: быть похороненным недостойно, без гроба (в газетах, «на закопание хватит»), собирать и продавать окурки, работать уборщицей/продавцом и т.д., а также с символами недоступного «стыдного потребления» – легинсы, бананы и т.п.
Говоря о соотношении авторской позиции и этой мировоззренческой системы, можно сказать, что она выступает в качестве рамки, задавая общее направление интерпретации совокупности нарративов через эпиграф, а также интервью, представленное в виде предисловия, послесловия, и интервью с самой автором, представленным в конце книги. Эпиграфы к книге звучат достаточно неожиданно, но по прочтении всей книги составляют с ней неразрывный гештальт, упорядочивая все сказанное героями Алексиевич: «Жертва и палач одинаково отвратительны, и урок лагеря в том, что это братство в падении» (Давид Руссе, «Дни нашей смерти»). Второй эпиграф не менее строго вменяет ответственность за «зло» каждому, кто умел распознавать его, но не воспрепятствовал его свершению: «Во всяком случае надо помнить, что за победу зла в мире в первую очередь отвечают не его слепые исполнители, а духовно зрячие служители добра», (В. Степун, «Бывшее и несбывшееся»).
Таким образом, в самом общем виде эта эпиграфическая интерпретационная рамка задает отношение к простому советскому человеку, горюющему о пусть кровавых, но идеалах в прошлом и стыдном «супермаркете вместо Родины» в настоящем, в парадигме «стокгольмского синдрома», когда жертва мыслит палача своим благодетелем. Более последовательно изложенной авторской позиции в книге мы не найдем.
Цель книги «Время секонд хэнд» – не представить всесторонний анализ травмы распада СССР, пусть даже основывающийся на опыте «частного человека». У Алексиевич нет претензии на то, что из множества различных опытов кумулятивным путем может быть составлена исчерпывающая картина, объясняющая некие социальные механизмы, на основании которой можно дать конечную оценку эпохе. Задача располагается не в плоскости социальной аналитики, она в другом: предоставить права голоса «пострадавшим». Ее герой – тот, «над кем» совершаются некие действия, не актор, а «винтик», которому книга Алексиевич вменяет ответственность, и одновременно сопереживает.
Работа, которую проделывает Алексиевич как автор, связана с помощью по оплакиванию утрат. Наиболее частые ремарки в скобках, которыми она обрамляет прямую речь своих героев: «Молчит» и «Плачет». Финал одной из историй оформлен Светланой Алексиевич следующим образом: « – вы мне верите? – Я верю… – говорю я. – Я выросла в той же стране, что и вы. Я верю! (И мы обе плачем).
Выговориться и выплакаться можно в присутствии некой инстанции, которая обеспечивает ситуацию доверительности и значимости говоримого. Фигура писателя становится посредником между говорящим и некой воображаемой аудиторией, представляя в своем лице все утраченное сообщество, а то и саму Историю, к которым обращается говорящий.
Она также легитимирует право высказываться и возвращает ценность частному опыту и страданию, которое выступает в качестве особого, не-аналитического способа рефлексии происходящего, способа пережить, проработать собственный опыт, возможно, не до конца понимая всю глыбу коллективного опыта, в который он вписан:
«Все время говорим о страдании… Это наш путь познания. Западные люди кажутся нам наивными, потому что они не страдают, как мы, у них есть лекарство от любого прыщика. Зато мы сидели в лагерях, в войну землю трупами завалили, голыми руками гребли ядерное топливо в Чернобыле… И теперь мы сидим на обломках социализма. Как после войны. Мы такие тертые, такие битые. У нас свой язык… Язык страдания…»
«Это – я! Моя память… Я ее никому не отдам – ни коммунистам, ни демократам, ни брокерам. Она – моя! Только моя! Я без всего могу обойтись: мне не надо много денег, дорогой еды и модной одежды… Я без много могу прожить. Но могу только без того, что было (Долго молчит. Так долго, что я окликаю ее.)
Читая Алексиевич, мы всякий раз мы сталкиваемся с отказом автора от обобщений. Представляя веер позиций, она отказывается от тенденциозных, банализирующих клише, к которым чаще всего может быть сведена даже самая высокая теоретическая оценка опыта «советского» а ля «Сталин ГУЛАГ построил, но зато он войну выиграл, колбаса была одного сорта, но зато мы в космос полетели…» и т.п. Множественность опытов не сводима к одной большой и тенденциозной правде-банальности:
«Мое последнее желание – напишите правду. Но мою правду… а не свою. Чтобы остался мой голос…»
Однако заявление Алексиевич о том, что она хотела бы «понимать», слушая истории конкретных людей, ставит вопрос о том, что подразумевается под «пониманием». Вероятнее всего «понимание» стоит трактовать тут не в глобальном веберовском ключе, как изучение мотивов, ценностных установок конкретного человека, из которых можно выкристаллизовать некий общий этос, через который далее можно объяснять социальные процессы. Понимание у Алексиевич скорее связано с вчувствованием в травму, ее разделением, проговариванием, которое позволяет ее должным образом оплакать. И, тем самым, провести некую границу, за которой «травмирующий опыт» уже не может бесконечно сосуществовать с говорящим, продлеваясь в будущее. Оплакивание помогает закапсулировать травматический опыт и оставить его в прошлом.
Виктор Казько, “І нікога, хто ўбачыць мой страх”: принять вину на себя
Повесть Виктора Казько «І нікога, хто ўбачыць мой страх» во многом перекликается с документальной книгой Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд» в своих интонациях, лейтмотивах и «травматических точках». Однако и локализация событий, и время действия в этом художественном тексте более сфокусировано: действие происходит в ранних 90-х, местом действия становится Минск. Главный герой произведения также отличается от «голосов» Алексиевич, прежде всего тем, что он – не «рядовой» свидетель эпохи, не «обычный» гражданин, а Мастер (сфера деятельности Мастера не детализирована, он, в широком смысле, «деятель искусств»). Главный герой Казько имеет статус творца, успешного в советские годы, снискавшего славу и награды, который, однако, оказывается в крайне стесненных материальных обстоятельствах после распада СССР.

Повесть состоит из потока сознания, воспоминаний и рефлексий Мастера, который попадает в больницу незадолго до собственного юбилея. Пышный юбилей организован и щедро оплачен государством, в то время как сам герой торжества практически не имеет средств к существованию. В конце повести Мастер умирает, завершая собственным уходом тягостные наблюдения над чужой ему действительностью.
Каким же предстает Минск 90-х в глазах Мастера, воплощающего собой беларусскую творческую интеллигенцию, и даже культурную элиту канувшей в лету БССР? Новый мир рисуется ему даже не в катастрофических, а, скорее уже в мертвенных тонах. Соотечественники предстают в его восприятии ходячими мертвецами, покинутыми, страдающими, двигающимися безжизненно и понуро:
«Горад, паркі, плошчы, скверы былі перапоўнены падманутымі людзьмі, больш падобнымі на нежыць, нелюдзь, чым на жывых людзей, такія пакутныя і адначава злосныя і абыякавыя былі яны і выгляд іх з твару. Хоць увесь час няспынна рухаліся, раіліся, над кожным з іх панавалі пакута, пакора і безнадзейнасць».
Беларусы 90-х – пугающая серая масса, практически дегуманизированная, распавшаяся на фрагменты (плечи, затылки, глаза), толпа, в которой не различимы лица, но видны анонимные абрисы и черты, выдающие усталость и отчаяние:
«Наперадзе натоўп, натоўп. Адны толькі плечы і патыліцы. Сумныя панурыя плечы, сівыя, панылыя патыліцы старых людзей. А вочы іх, вочы яшчэ больш жахлівыя, чым патыліцы, як у малпаў у няволі – за кратамі, у звярынцы. А з абодвух бакоў – кентаўры з чорнымі гумавымі дубінкамі».
Что же анонимизировало и лишило человеческого облика этих людей? Что было той жизнью, которая наполняла их раньше, и покинуло теперь? Как и во многих нарративах героев Алексиевич, в повести Казько речь также идет о неком фундаментальном обмане, который пошатнул основы существования беларусов, вынув из них живой стержень.
«Як некалі была так званая “общность”– савецкі народ, цяпер пайшла парода падматуных укладчыкаў. І проста падманутых у сваіх надзеях на жыццё і будучыню людзей. І гэтыя людзі яшчэ па-чалавечы тоўпіліся, перабіралі нагамі, сноўдалі сюды-туды, разяўлялі рты, але без жыцця, без слоў і надзей».
Обманщиком выступает не «дикий капитализм», рынок или руководители новой страны. Напротив, вся ответственность ложиться на прошлое, на самих людей, прежде веривших в коммунистические идеалы Советского Союза, который, вместо реализованной Утопии привел их к краху и необходимости выживать в условиях рынка, который они научились презирать, ненавидеть или бояться:
«І не ўлада, не банкі, не хцівыя і хіжыя банкіры падманулі іх. Яны падманутыя па сваёй волі і ахвоце, і, як гэта не дзіўна, па сваім жаданні, прывідам, што колькі ўжо зстагоддхяў сноўдаў па Еўропе».
В размышлениях Мастера у Казько беларусам приписан тот же «стокгольмский синдром», который переживают многие нарраторы в книге Светланы Алексиевич. Причина катастрофического настоящего – в лживом прошлом, которое сгенерировало для многих поколений «обманутых вкладчиков» ложную мечту.
Казько амбивалентно описывает болезненное отношение своего героя к деньгам. В этой амбивалентности сходятся классическое презрение к материальным благам творческого человека, и сильнейшее ощущение вины из-за многолетнего «холуйства», под которым подразумеваются иерархические, патерналистские «дотационные» и «спонсорские» отношения между государством и творческой интеллигенцией в СССР. Рыночные же отношения, с которыми герой, по сути, был не знаком прежде, мыслятся как, по большому счету, как более «честные», хотя и жестокие.
«Грошы трэба зарабляць, ці красці, а не прасіць. Не спадзявацца, што нейкі дабрадзей уважыць цябе, зробіць ласку і падасць міласціну. А ён прывык да гэтай міласціны з панскіх рук! Панскія рукі прыручылі яго, як і ўсіх астатніх, хто ў гэты час знаходзіцца на вуліцы і лямантуе – таксама патрабуе міласціны (…) Майстру зрабілася брыдка за сябе, за сваю непазбытную, чалядную халуйскую сутнасць».
Новые рыночные отношения пусть и освободили от необходимости «холуйства», но вместе с этим освобождением принесли новые унижения, поскольку нагрянули на беларусов в самом своем радикальном и «низком» воплощении. Например, своего рода перекличкой к описанной в книге Алексиевич торговле окурками, в повести Казько выступает перепродажа использованных билетиков на проезд в общественном транспорте. Он подробно описывает этот способ заработка, а его герои видят в этой унизительной практике некий микрокод рыночных отношений как таковых:
«Але… пачакай, каб другі раз выкарыстаць білет, трэба ўсё ж набыць яго і выкарыстаць яго першы раз.
– У яблычка, – пагадзіўся сябра. – Тут таксама свая тэхналогія і метода. Адзін купляе, выкарыстаў – выкідвае. А другіх ходзіць па аўтобусных прыпынках і збірае. Только канкурэнцыя вялікая. Але нічога не паробіш – рынак, рынак і адпаведна рыначныя адносіны. Могуць і морду набіць. Хочаш жыць – умей круціцца, будзь прадпрымальным».
Таким обазом, унизительными видятся как патерналистское устройство Советского государства, обеспечивающего интеллигенции материальные блага в обмен на лояльность, так и новые радикально-рыночные условия. Отдельная и немаловажная травматичная тема в повести Казько – тема еды, похорон, а также тема одежды/костюма. Она на бытовом уровне поддерживает и иллюстрирует проблему утраты человеческого достоинства из-за полного обнищания.
Голод является вполне реальной, оформленной фобией главного героя. Он питается очень скудно, с трудом выделяет деньги на питание кота, а в одном из фрагментов книги описан драматический эпизод, в котором Мастер со слезами на глазах насильно запихивает в глотку коту дешевую колбасу, которую тот отказывается есть. В другом эпизоде, предчувствуя собственный скорый уход, Мастер пытается передать опеку над котом другу, а тот вынужден оказываться, боясь, что просто не прокормит кота из-за собственной бедности.
Кушать нечего не только домашним животным, но и самим людям:
«А зіма ж наперадзе. Не толькі кату, а людзям зіма. Крывянка ў Мінску знікла, ці такія чэргі… Пра ліверку ўжо не кажу, самому паласавацца не выпадае. І калі перавесці толькі на крывянку – гэта, лічы, мінімальная наша беларуская зарплата…».
Так колбаса, выступающая символом нового пространства консюмеристского выбора в нарративах многих героев Алексиевич, показывает свою оборотную сторону, становясь символом дефицита и угрозы голода. Отношения Мастера к еде показаны с долей отчаяния и сарказма. В то время как в повседневности жизни он почти голодает, перед юбилеем его больничный холодильник оказывается набитым едой до отказа. Этот набитый продуктами холодильник показан в повести как своего рода издевка, только подчеркивающая бедственное положение героя в «неюбилейное» время, когда государство не подбрасывает ему «подачек».
«Майстра адчыніў халадзільнік, той быў забіты прадуктамі, садавінай, гароднінай, напоямі і калбасамі.
– Сволачы, сволачы, – сказаў ён. – Спакушаеце. Усе жыццё спакушалі. І сёння таксама… А дзе ж вы былі пазаоўчора, месяц яшчэ назад…».
Мастер не прикасается к этой подачке, а съедает в день своего юбилея лишь кусочек сала. Небольшой кусочек сала – символ скромных потребностей, деревенской простоты, близости к корням, традициям и земле. Сало как символ противостоит в повести Казько продуктовому изобилию холодильника, – в котором «даже» были бананы (еще один символ «соблазнов» нового мира из «Времени секонд хэнд» Алексиевич), – и дешевой колбасе-кровянке – символе нищеты 90-х.
Холодильник, полный еды, описанный Казько, – своего рода «двойник» казенного гроба, который государство по разнарядке предоставляет своим верным слугам. Предчувствующий свою скорую смерть, герой воспринимает юбилейные торжества в контексте иного, уже окончательного ритуала прощания. И холодильник, и фрак с красной бабочкой, о котором герой несколько инфантильно мечтает, и пышное застолье, описанное фантасмагорично, с долей комичного официоза и стыдной помпезности – парафраз его похорон, как бы разыгранных заранее в его присутствии.
«Адзінае, што ўмела яго дзяржава, на што была здольная – гэта праводзіць паказальныя юбілеі і такія ж паказальныя пахаванні. Па рангу, па рэгламенту: добрых юбіляраў і нябожчыкаў – у добрыя труны, паганых – у паганыя».
Рекламные слоганы вместо советских лозунгов – таково основное наблюдение героя повести Виктора Казько над изменением городского пространства. Фиксация этого противопоставления также роднит нарраторов «Времени секонд хэнд» с Мастером:
«Гэтая рэклама ў апошнія гады замяняла, пераможна выціскала з вуліц гібельнага жабрацкага горада былыя савецкія партыйныя заклікі і цяпер панавала паўсюдна болей на чужой, ангельская ці нямецкай мовах».
Так или иначе, взаимодействие и со старым и с новым типом общественного устройства перерабатываются главным героем в личную ответственность и вину. Жесткое иерархичное управление культурной политикой и социальные гарантии государства оборачиваются холуйством «мастеров культуры», государство сравнивается с паном, а граждане – его холопами. Травма нищеты, обрушившаяся в 90-е, выступает как переплетение моральных дилемм: благополучие в СССР было связано с «милостыней», полученной у государства, а рынок принес новые законы выживания и унизительное небрежение государства своими прежними обязательствами опекать граждан: хочешь жить, умей крутиться.
Этот дабл-байнд ставит героя в тупик: не только настоящее, в котором отрезаны возможности для этически приемлемого обретения благополучия становится невыносимым. Настоящее переписывает прошлое, заставляет героя испытывать вину, задаваться вопросами о самоуважении. Прошлое теряет непротиворечивость и осмысленность. 90-е ставят вопрос достоинства очень жестко – причем уязвленными оказываются обе эпохи жизни Мастера – советская, и постсоветская.
Новое государственное устройство принесло не только ужесточение советской репрессивности, но и новый тип равенства: равенство в нищете, равенство людей, у который отняли чувство собственного достоинства. Для Казько травма 90-х накладывается на извечную «крыўду» беларусов, издавна приписываемую литературной традицией беларусскому народу, этот новый крах обнажает завуалированные прежние травмы, застарелую «боль народа».
«Тыя, што сарамліва і моўчкі неслі з веку ў век крыўду, боль і кроў на сваіх руках і нагах, цяпер неслі іх як на выставу, з лямантам і крыкам. Усе вакол і адразу ўряўняліся ў жабрацтве, галечы, нішчымнасці. Усе сталі роўныя і можна было не саромецца».
Новая государственная машина, пришедшая на смену советской, описывается как ее более радикальное органичное продолжение, с той лишь разницей, что вместо социализма к ней добавился рынок. Тем не менее, адресатом сетований и обвинений герой повести Казько делает себя и только себя. К самообивинению, например, он приходит, наблюдая задержание на митинге случайного прохожего, молодого парня, переводя ситуацию государственного насилия в личностный план и рассуждая о собственной воле к сопротивлению:
«І гэты няшчасны хлопчык, навучэнец прафесійна-тэхнічнага вычулішча, што выпадкова апынуўся перад міліцэйскай дзяржаўнай машынай, нямко. Нямком быў і застаецца ён сам, Майстра, і што больш за ўсё балюча і прыкра, ён жа сам вінаваты ў гэтай сваёй глухаце і немасці. Бог даў яму голас і слова, адметныя слых і мову. (…) А ён так бязглузда, бяздарна распарадзіўся гэтым вышэйшым дарам. Прадаў гэты дар, прадаў сябе. Нават невядома, каму прадаў. Фаўст хоць заклаў душу чорту, мярзотніку, але усё ж інтэлекту і сіле. А ён саступіў душу звычайнаму прывіду, хай жорсткай, бязлітаснай, але ўвогуле дубаватай машыне».
Таким образом, все внешние, системные, социальные обстоятельства, травмирующие нацию, и вместе с ней – Мастера, который несет на себе ответственность за ее честь и совесть, будучи представителем творческой интеллигенции, – переносятся во внутренний план вины главного героя. Он рассуждает и действует по принципу: внешняя травма – моя ответственность и моя вина. Доля моей собственной виновности заставляет Мастера не просто страдать или оплакивать некий нанесенный мне или моему народу ущерб, а приписывать весомую долю ответственности за это самому себе. Местами саркастично, местами – с глубокой печалью и отчаянием описывая наблюдаемые им трансформации, Мастер, прежде всего, ловит отблеск происходящего в собственной судьбе и совести, обвиняя не «дикий рынок», репрессивное государство или еще какие-то внешние силы. Они для Казько выступают скорее как стихийные силы, которым индивид, а тем более Мастер, должен умудриться дать достойный ответ. Тем не менее, травма, которую наносят эти стихии, слишком масштабна, чтобы ей можно было противостоять, не теряя полноты ощущения собственного достоинства.
Следовательно, способом излечения от травмы в данном случае может лишь полное принятие своей капитуляции перед жестоким новым миром, умирание. Которое может быть расценено и как своего рода самонаказание за неспособность сделать из своей жизни этически непротиворечивое, цельное произведение искусства, и как протест, отказ от существования при новых несправедливых условиях игры. Умирание – это также и радикальный способ поставить точку, подвести черту под слишком пестрой, неупорядочиваемой жизнью, полной не подводимого под единый знаменатель опыта. Умирая, Мастер тем самым «захоранивает» травматичное вместе с собой, взяв ответственность за все ошибки прошлого и свою неспособность существования в настоящем.
Эта стратегия описания постсоветского опыта, безусловно, сильно отличается от пути, избранного Светланой Алексиевич. Если герои Алексиевич получают возможность публично оплакать свои утраты, чтобы отпустить их, Мастер в повести Казько в гораздо большей степени видит травму советского/постсоветсокого как внутреннюю, а не внешнюю. Он берет на себя всю полноту ответственности за собственный «стокгольмский синдром» и холуйство в прошлом и признает неспособность существования в новом мире рынка.
Герой повествования об «умирании вместе с эпохой» – мужчина, прежде облеченный регалиями, имевший влияние, ему приписывается высшая степень владения неким Мастерством. Такой классический мужской субъект, Мастер с большой буквы, властитель консервативной ценностной вселенной, опыту которого приписывается исключительность, хотя и обладает самоиронией, но, вероятнее всего, самим автором выведен в качестве «мерила эпохи» без тени сомнения в том, что именно в нем, как в «магическом кристалле», должно отразиться все многообразие социальных изменений. Возможно, такой выбор героя вплотную коррелирует со стратегией проработки травмы, которую мы находим в повести. Фигура Мастера с распадом СССР прежде всего терпит крах собственной патриархальной идентичности. Причины этого кризиса маскулинности/гениальности (как средств для реализации символической власти) видятся им в качестве сугубо внутренних, возможно, по причине нежелания принять тот факт, что его идентичность отнюдь не монолитна и незыблема, и пошатнуть ее могут независящие от него внешние силы. Патриарх же хватается за иллюзию монолитности собственной фигуры, и даже оказавшись низложенным в качестве наиболее глубинной причины собственного краха готов признать только себя самого.
Принять вину и оставить мир, в котором невозможно достоинство (под которым различимы в целом символическая значимость, власть) – эта стратегия, описанная Казько, безусловно, в сильной мере отражает депрессию интеллигенции и деятелей культуры на переломе эпох.
Игорь Бобков, «Хвілінка»: облечь травму в миф
В романе Игоря Бобкова «Хвілінка» травма постсоветского получает одновременно более метафизическое и более обобщенно-политическое звучание. Действие романа начинается в 80-е и простирается до раннего этапа государственной независимости Беларуси. Автор рассказывает несколько причудливо переплетающихся историй, в которых действуют сам автор, поэт Францишак, политический активист Багдан, певица Эва Даминика, а также бармен любимой ими кофейни Лео. Через переплетение судеб этих персонажей Игорь Бобков рисует закат «советской эры» и социальные трансформации 90-х.

На первый взгляд, описания советского и постсоветского опыта героев полностью очищены от любого травматизма. Советское описывается в категориях скуки, равнодушной отстраненности. Автор предлагает нам масштабные обобщения, наполненные переживанием омертвелости, замороженности социальной жизни, которая, казалось бы, может самовоспроизводиться до бесконечности:
«Менск узору 1984 года: чысты, халодны, амаль дасканалы ў сваёй нерухомай зімовай прыгажосці. Формы жыцця здаюцца такімі трывалымі і такімі стомленымі. Усе застыла, усё змерзла навокал. Вусны ледзьве варушацца, словы не слухаюцца. Каб распавесці на пра самае простае, трэба амаль подзьвіг. Яшчэ штосьці застаецца: на гарышчах ляжаць старыя кнігі, напісаныя на дзіўных мовах. Бабулі ў весках усё яшчэ спяваюць, але ўсё цішэй і цішэй. Беларуская вёска, раскіданая па камароўках, расцярушаная па калгасных палетках, – ужо не ведае сябе саму».
Ощущение изоляции, неприкаянности и невключенности в социальность, а также имитационность социальной жизни как таковой, переживаются героем Бобкова как сатори. Так, негативные социальные аффекты отчуждения и атомизации индивида преобразуются в продуктивное и освежающее состояние, связанное с установлением спасительной дистанции по отношению к чужому и уже омертвелому социуму. Наблюдая однажды за течением городской жизни из окна кофейни, автор переживает ощущение собственной отдельности, освобождения от иллюзии, спектакля, в котором продолжают играть другие.
«Усе засталося такім, як ёсць. Машыны рухаліся ў розных кірунках, кудысці ішлі людзі, у шапіках прадавалі Правду і Вечерній Мінск, піянеры ўскідвалі свае рукі ў салюце і давалі клятву жыць, як завяшчаў вялікі Ленін, менскае метро рыхтавалася ўпусціць у свае светлыя залы савецкі народ беларускага разліву. І ў той жа час было ясна, што гэта толькі ілюзія, сон – усяго гэтага насамрэч няма».
Основная эмоция, которую автор испытывает по поводу оставшейся где-то за скобками его существовании «Советской Белоруссии» – это «легкое отвращение», «тошнота». В качестве источника этих ощущений описывается не ощущение несправедливости социального устройства, а интеллектуальный и эстетический протест против нерушимости социальных автоматизмов и правил игры. Говоря о советском Бобков как бы поднимается над детализацией социально-политической проблематики, намечая свою позицию кратко и четко:
«Я ужо тады адчуваў лёгкую агіду да дэкарацыяў тагачаснага спектаклю. Не кажучы пра сюжэты. Сцэна была запоўненая аж занадта, яна ўжо больш не прымала ніякіх іншых.
На ёй маршыравалі піянеры ў гальштуках і белых кашульках, камсамальцы вечна штосьці будавалі, а пасведчанне станоўчага персанажа выдавалі только ў парткаме. І хаця жыццё ўсе роўна брала сваё,там было неяк цеснавата.
Не, па свойму яна, сцэна, была нават утульнай. Яна ўжо не была крыважэрнай, асабліва калі не імкнуцца да краю і не думаць пра гару трупаў у першым акце”. Але, калі я заходзіў у кнігарню і пачынаў гартаць іх кнігі, мне рабілася млосна. (…) У гэтых кнігах усе для ўсіх было зразумела. Свет был трывалы і пэўны».
Таким образом, наиболее болезненные травмы «советского», связанные с гражданской войной, коллективизацией, со сталинскими репрессиями, и т.д., к которым обращаются нарраторы Светланы Алексиевич, находятся далеко вне поля внимания повествователя в романе «Хвілінка». Позднесоветский опыт описывается автономно от «гары трупаў у першым акце». Эти травмы проработаны нарратором интеллектуально и вынесены за скобки, для него самого к «первому акту» в контексте данного романа вопросов не ставится, а действительность (поздний СССР) проблематизирована исключительно через свою косность, чрезмерную «понятность» и нерушимость. Главная проблема «позднесоветского» – в инертности, безальтернативности тотального спектакля.
Отсюда – и способы карнавального противостояния системе, который описан во фрагменте знакомства трех его главных героев – Францишка, Багдана и Эвы Даминики, когда они случайно оказываются в «ленинской комнате» студенческого общежития, веселятся, пьют вино, слушают пластинки, рискуя, возможно, не только своим благополучием, но и свободой. Герои выбрасывают в окно сочинения классиков марксизма и «Новую землю» Брежнева, а позже покидают запертую изнутри комнату на воображаемом воздушном шаре. Так расправа с чужими, ненужными, мертвыми книгами, воплощающими код дряхлеющей системы, превращается в игру, акт свободы и беззаботности, противоположный по своему модусу любым мертвенным ритуалам, производимой самой системой.
Дистанцирование, уход в пространство личной свободы со сцены «советского», тем не менее, не означает действительного отсутствия проблемы травмы в художественном тексте. За счет этого особое значение приобретает то единственное прямое упоминание о травматическом опыте, которое можно найти в романе. Тема «боли», которую все же доставляет автору действительность, вводится невзначай, чтобы рассказать о самом важном месте в микрокосме автора и его героев, кофейне «Хвілінка», которая дала название всему роману:
«Я ўжо другі год блукаў па Менску ў пошуках месца, дзе можна было б затрымацца, дзе было б не так балюча жыць».
Это мимолетное указание на реально переживаемую боль героя (несмотря на заявления о «спектакле», иллюзии, нереальности всего вокруг) дают основания понимать поэтизм и интеллектуализм рефлексий, которыми наполнена «Хвілінка», в качестве свидетельства проработанной, рационализированной травмы. Подобный тип работы с травматическим опытом назван теоретиком литературы Эриком Сантнером «нарративным фетишизмом». В это понятие автор вкладывает «конструирование и использование нарратива, сознательная или бессознательная цель которого состоит в том, чтобы стереть следы той травмы или утраты, которая, собственно, и дает жизнь этому нарративу» . Примерами такого рода нарративов Сантнер считает многие произведения русской эмигрантской литературы, которые тематически отмежевались от темы утраченной родины, революции, и стремились к эстетической и интеллектуальной аутентичности, не перекликающейся с советской литературой.
Я не настаиваю на терминологии Сантнера и слишком буквальном сопоставлении описанных им примеров со стратегией работы с травмой в «Хвілінке». В данном случае мне лишь хотелось бы сделать акцент на возможности построения такого рода нарратива, в котором наличие травмы лишь намечается, а сам нарратив превращается в интеллектуальное путешествие, которое должно увести от исходной точки, создав новый спасительный миф, включающий в себя объяснительные схемы, рецепты ухода от травмы, а также по форме представляющий собой эстетическую противоположность всем тем культурным практикам и ритуалам, в которых и воплощался травматический опыт.
Таким образом, «советское» в романе Игоря Бобкова описано в категориях мертвого, механистичного спектакля, травматизм которого представлен латентно, но различимо. Ведь именно для того, чтобы «перетерпеть» или дистанцироваться от всего этого, герой находит «Хвілінку», «несистемное» место, где можно наконец остаться наедине с собой или встретить особых, своих людей.
Неслучайно таким центром нового микрокосма становится кофейня – скромная, маленькая, однако выходящая окнами на главный проспект столицы. Кофейня – это антитеза «кухням», на которых «с фигой в кармане» критиковали власть «физики и лирики» 60-70-х. Кофейня – не подпольный «флэт», и не шестидесятническая кухня, а вполне публичное место, которое не прячется от системы и не позиционирует себя радикально «вне системы», однако как бы ускользает из поля ее видимости, находясь на самом виду.
Будучи публичным пространством, вынесенным в самую гущу городской жизни, кофейня – это островок покоя, где уважается личное пространство, одиночество, молчание. Чашечка кофе – символ чистого, эстетского удовольствия от вкуса, не связанного с профанной питательностью пищи или опьяняющим действием алкоголя. Кофе – напиток с флёром европейскости, и связывает с традицией интеллектуальной беседы в городском кафе. С другой стороны, в кофейне не обязательно вести острополитические беседы, критиковать и обличать. Достаточно, чтобы кофейня существовала в качестве места, куда можно прийти. Само ее существование – сбой в работе советской системы, дающий дополнительные ресурсы для «менее болезненного» существования в ней.
«Анічога не застаецца рабіць у эпоху непапраўнай дэградацыі свету, у часы Калі-Югі, як толькі прыйсці ў кавярню і замовіць гэты кубачак з густой, цемна-духмянай вадкасцю».
Указание на конкретное место расположения «Хвілінку», детализация ее внутреннего устройства, описание многочисленных подробностей, говорит о том, что «Хвілінка» – не просто абстрактный символ новой интеллектуальной волны в Минске. Автор привязывает центр своей символической вселенной к точно определенному месту, времени, и живому человеческому опыту, дорогим и важным воспоминаниям конкретного поколения и конкретной группы людей внутри него.
Символически кофе, употребляемый за раздумьем или беседой в «Хвілінке», противостоит «колбасе» в книге Алексиевич и «салу» в повести Казько. Если одним из важных травматических пунктов для нарраторов «Времени секонд хэнд» становится столкновение с новыми потребительскими выборами на которые нет средств (фобический объект – колбаса), то у Казько колбасе как символу дефицита и голода противопоставлено сало – традиционная пища, кусочек которой всегда найдется в деревенском доме, простая, аутентично беларусская еда. В романе Бобкова «хлеб насущный» и фобии, связанные с его добыванием, полностью вытеснены. Еда заменена интеллектуальным «топливом» – кофе, которое являясь в каком-то смысле анти-едой, тем не менее, связывает воедино близких по духу людей, помогает разговору и одинокому раздумью. Можно сказать, что абстрагируясь от пласта простейших человеческих потребностей (материальная обеспеченность, облекаемая, в частности, в упоминания о продуктовом дефиците), роман «Хвілінка» выводит на авансцену повествования проблему дефицита социальности. Уделяя столько внимания любви к кофе, выпитому в «правильном месте», Бобков не столько эстетски возносится над всей той тяжело переносимой, вязкой бытовой неустроенностью, о которой говорят герои Алексиевич, описывая перестройку и 90-е. Он указывает на ключевую системную поломку, предрешившую крах СССР – утрату социальных связей, атомизацию индивидов, механицизм омертвелых социальных ритуалов. «Хвілінка» же является островом, где живая социальность становится возможной, а контраст между ее внутренним устройством и внешним «спектаклем» лишь констатирует грядущее нарастание жажды обновления, установления новых коммуникативных режимов, перезагрузки социальной жизни.
Отсюда и описания 90-х в романе – с акцентом на порыве преображения действительности, на надежду обретения для Беларуси собственного пути:
«Для яго гэта быў, перадусім, бунт, выклік той фальшывай і прагнілай нармальнасці, якая панавала паўсюль».
Хотя и не без констатации второй стороны медали – воровства, передела всего, «что плохо лежит», которое шло параллельно борьбе за демократические свободы.
«Калі ж морак разыйшоўся, першая эйфарыя змагання прамінула, раптам стала ясна, што пакуль некаторыя былі на барыкадах, іншыя цягнулі ў свае норкі ўсё, што было можна».
На ком же, по нарратору романа, лежит ответственность за то, что «свой путь», в который так верилось героям Бобкова в начале 90-х, относительно плавно превратился в современную и хорошо знакомую нам «стабильность»? Ответственность лежит не только на коррупционерах, властьимущих или неудачливых «революционерах», а на большинстве, которое выбрало путь лояльного потребления, отказавшись от возможностей переломной эпохи.
«Калі яны пачыналі, яны былі ўпэўненыя, што вызваляюць народ: з прыгнёту, з цемры, з бяспамяцтва. Што яны выводзяць усіх на свабоду. І там будзе ўсё: і незалежнасць, і мова, і дабрабыт, і культура, і годныя пенсіі. Варта было толькі зрабіць выбар і крыху патрываць бо, ясна, чагосьці дасягнуць можна было толькі праз намаганні. Калі ж сапраўды з’явіўся выбар, большасць выбірала зусім іншае. Яны зусім не збіраліся нічога чакаць ад будучыні, а спрабавалі ўзяць усё, што магчыма, ад сёння. Будавалі свае хаткі. Садзілі кветачкі. Куплялі “фальксвагены” і “мерсэдэсы”».
Таким образом, разрыв с тотальным и мертвым «советским спектаклем» закончился установлением в Беларуси «капиталистического» спектакля в духе Ги Дебора, гораздо более разнообразного и живучего. Спектакль этот больше не требовал игры в пионеров, не навязывал пустых ритуалов. От граждан Беларуси от ждал лишь включения в мировую систему потребления, и занятия позиции пассивного зрителя политического спектакля – как глобального и отечественного. Даже национальное «адраджэнне» не смогло, по мнению нарратора, уклониться от включения в этот общемировой тренд:
«Апошняе беларускае адраджэнне, напісаў ён, пачыналася як рыцарскі гэст, як абарона пакрыўджаных. Памерлых, закатаваных, забытых. А скончылася правым праектам, ідэалагічнай абслугай перыферыйнага капіталізму. Чаму так адбылося, няясна. Але тое, што ясна і пэўна – у кожнага цяпер свая сцежка і свая праўда».
Отдельного упоминания стоит один из фрагментов книги, в котором нарратор рассуждает об одном стихотворении Болеслава Лесьмяна «Девушка», сюжет которого становится метафорой советского опыта и травмы распада СССР. В стихотворении говорится о семи братьях, которые услышали из-за стены плач девушки. Они решили прийти к ней на помощь и разбить стену молотами. Долго били они в стену, пока не погибли, не превратились в тени. Но тени продолжили бить в стену, и били, пока не погибли также. Остались лишь молоты, которые продолжили разбивать стену, чтобы освободить девушку. Когда же стена наконец поддалась и рухнула, оказалось, что за стеной нет никакой девушки, там пустота.
Сюжет «стокгольмского синдрома», известного нам по многочисленным нарративам во «Времени секонд хэнд», или «история обманутых вкладчиков», как это формулирует Виктор Казько, у Бобкова воплощается в истории о братьях, которые превратились сначала в тени, а затем и в молоты, в надежде освободить девушку, которой никогда и не существовало. Обманный голос привел их к погибели, и не единожды, а несколько раз, превратив из живых людей даже не в метвецов, а в косное, слепое орудие.
Рассказчик в «Хвілінке» не просто облекает травму в такую метафору, но и указывает столь же метафорический способ вернуться к жизни после нее. Это не рецепт успешного излечения, а лишь жест освобождения, на который не все способны:
«Каб вярнуцца, трэба адарвацца ад формы, якую надала нам эпоха. Перстаць быць молатам. А гэта заўсёды больш складана, чым пачуць далёкі глас і памкнуцца да невядомага. Першыя крокі. І вось яны ўжо не молаты, а цені. Нябачныя, нікому не цікавыя, беспрытульныя”. Іх ужо не дванаццаць – лічба дасканалай поўніцы – а значна менш. І ідуць яны ўжо не разам, а кожны ў свой бок».
Таким образом, в романе Игоря Бобкова травма, на первый взгляд, вынесенная за скобки, подается уже в отрефлексированном виде, в качестве мифа, превращающего болезненный опыт в связный гештальт. Метафора и ирония помогают придать нарративу о травме целительный эффект, приглушая болезненные эмоции, примиряя с прошлым, чтобы дать «молотам» вернуться к прежнему облику, сбросив с себя формующий гнёт эпохи.
В то же время, рассказанные в романе истории как бы проходят замкнутый круг: от созерцательности и отстраненности от «общества с дефицитом социальности» позднего СССР герои романа переходят к активному участию в социальных преобразованиях, а затем возвращаются… к той же созерцательности, но уже с опытом неисполненного, нереализованного социального проекта новой Беларуси. Роман подвешивает вопрос о реальных способах, которыми можно заставить «молот» перестать быть «молотом» и о возможностях деятельного будущего для его героев. Возможно, как раз такой мостик в будущее будет протянут в продолжении «Хвілінкі».
***
Три рассмотренные произведения, как мы видим, представляют собой содержательно схожие описания травмы «советского/постсоветского». Тем не менее, авторы выбирают совершенно различные стратегии проработки этой травмы. Светлана Алексиевич стремиться помочь своим героям “правильно оплакать” свои утраты, чтобы пережить их. Виктор Казько выстраивает нарратив о полном принятии ответственности (или даже вины) за советский период и все, что наступило после него. Игорь Бобков создает миф, в котором позднесоветский и ранний постсоветский опыт беларусов обретает связность и непротиворечивость.
Какая из этих стратегий наиболее продуктивна? Вряд ли такой вопрос правомерен. Важно, что они сосуществуют, дискутируя друг с другом и дополняя друг друга, оставляя пространства для новых стратегий, возникновение которых долгое время будет очень востребованно, ведь (пост)советскую травму мы по сей день не пережили.
Примечания:
Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. №1, с 6.
Сантнер Э. История по ту сторону принципа наслаждения: Размышления о репрезентации травмы // Травма:пункты / Сост.С. Ушакин, Е.Трубина. М., Новое литературное обозрение, 2009, С. 392.